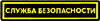Приведу ещё один отрывок из первоисточника - http://magazines.russ.ru/zvezda/2006/12/ko11.html
Прошу обратить внимание на подход к проблеме, не связанный с личностными характеристиками мужчин, социальной успешностью и национальными особенностями.



“Кризис отцовства” коренится не только в семье. У современных мужчин заметно ослабла как способность, так и мотивация к деторождению. Первое связано прежде всего с экологическими, а второе — с социальными и психологическими факторами. В результате эмансипации сексуальности от репродукции символическим показателем “мужской силы” давно уже стало не количество произведенных на свет детей, а сама по себе сексуальная активность. В ситуациях, когда деторождение было выгодно мужчинам или хотя бы не сопряжено с личной ответственностью (например, при изнасиловании вражеских женщин во время войн или при связях с проститутками), эти факторы не различались, но в повседневной жизни, как в браке, так и вне его, мужчина привык заботиться о том, как удовлетворить свои сексуальные потребности, не становясь отцом. Появление в конце ХХ в. женской гормональной контрацепции позволило мужчинам переложить эти заботы на плечи самих женщин. Но это дало женщинам дополнительную власть: сегодня сексуально образованная женщина может принять важнейшее репродуктивное решение без согласия и даже без ведома своего партнера, что порождает целый ряд сложных моральных и юридических вопросов, связанных с определением отцовства.
Благодаря возможности генетического определения отцовства многие мужчины (по данным разных исследователей, цифры варьируют от 1 до 30%) обнаруживают, что воспитываемые ими дети на самом деле зачаты не ими. Средняя цифра, по подсчетам Джона Мура, составляет 3,7%, так что почти каждый 25-й ребенок появляется на свет не от того мужчины, который считается его отцом. Это еще один источник мужской неуверенности. Получается, что детей не обязательно иметь, трудно содержать, легко потерять, и в придачу они могут оказаться чужими.